- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Общие вопросы дифференциации ответственности за посягательства на собственность
Обстоятельства, отягчающие ответственность за преступления против собственности, разнообразны и часто повторяются в рамках разных составов преступлений. Следует отметить, что проблеме дифференциации законодатель в последние годы справедливо уделяет повышенное внимание, хотя законодательные новеллы удачны далеко не всегда.
При описании посягательств на собственность законодатель использует следующие виды обстоятельств, которые обусловливают применение более жесткой уголовной ответственности.
Квалифицирующие признаки:
- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (п. “а” ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, п. “а” ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162, п. “а” ч. 2 ст. 163, п. “а” ч. 2 ст. 164 (совместно с признаком организованной группы), п. “а” ч. 2 ст. 166 УК РФ);
- совершение преступления с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище*(923) (п. “б” ч. 2 ст. 158 (совершение кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), п. “в” ч. 2 ст. 161 УК РФ);
- совершение преступления с причинением значительного ущерба гражданину (п. “в” ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК РФ);
- совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем (п. “г” ч. 2 ст. 158 УК РФ);
- совершение преступления с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. “г” ч. 2 ст. 161, п. “в” ч. 2 ст. 166 УК РФ);
- совершение преступления с применением насилия (п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ);
- совершение преступления в крупном размере (п. “д” ч. 2 ст. 161, п. “г” ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 165 УК РФ);
- совершение преступления с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ);
- совершение преступления организованной группой (п. “а” ч. 2 ст. 164 УК РФ);
- совершение преступления, повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или документов, имеющих особую ценность (п. “в” ч. 2 ст. 164 УК РФ);
- совершение деяния, причинившего имущественный ущерб в крупном размере (ч. 2 ст. 165 УК РФ);
- совершение преступления из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ);
- совершение преступления путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ);
- совершение преступления, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Особо квалифицирующие признаки:
- совершение кражи с незаконным проникновением в жилище (п. “а” ч. 3 ст. 158 УК РФ);
- совершение разбоя с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ);
- совершение кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (п. “б” ч. 3 ст. 158 УК РФ);
- совершение преступления в крупном размере (п. “в” ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 162 УК РФ);
- совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ);
- совершение преступления организованной группой (п. “а” ч. 3 ст. 161, п. “а” ч. 3 ст. 163, п. “а” ч. 3 ст. 165, ч. 3 ст. 166 УК РФ);
- совершение преступления в особо крупном размере (п. “б” ч. 3 ст. 161 УК РФ);
- совершение преступления в целях получения имущества в особо крупном размере (п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ);
- совершение преступления с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ);
- совершение преступления, причинившего особо крупный ущерб (п. “б” ч. 3 ст. 165, ч. 3 ст. 166 УК РФ).
Особо особо квалифицирующие признаки:
- совершение преступления организованной группой (п. “а” ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, п. “а” ч. 4 ст. 162 УК РФ);
- совершение преступления в особо крупном размере (п. “б” ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, п. “б” ч. 4 ст. 162 УК РФ);
- совершение преступления с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. “в” ч. 4 ст. 162 УК РФ);
- совершение преступления с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ).
Современная дифференциация уголовной ответственности за посягательства на собственность отличается следующими признаками:
- Дифференциация основана на учете разной степени общественной опасности дополнительных обстоятельств, которыми сопровождалось совершение преступления. Эти обстоятельства, в свою очередь, образуют несколько самостоятельных групп:
- обстоятельства, в основе которых лежат особенности (дополнительные характеристики) деяния (совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, совершение кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, крупный и особо крупный размеры совершения деяния);
- обстоятельства, относящиеся к последствиям деяния (значительный ущерб гражданину, тяжкий вред здоровью, имущественный ущерб в крупном размере, особо крупный ущерб, уничтожение, порча или разрушение предметов или документов, смерть человека или иные тяжкие последствия);
- обстоятельства, связанные со способом преступного посягательства (проникновение в помещение, жилище или хранилище, применение насилия или угрозы, применение оружия или средств, используемых в качестве оружия, взрывы, поджоги и иные общеоопасные способы);
- обстоятельства, связанные с субъектом преступления (группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, лицо, использующее свое служебное положение);
- обстоятельства, связанные с субъективной стороной содеянного (цель получения или завладения имуществом в особо крупном размере, хулиганский мотив).
- Законодатель часто использует в ней устойчивые сочетания квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков.
- В то же время даже в рамках групп однородных преступлений (хищений, например) наблюдается непоследовательность как в наделении того или иного деяния конкретными квалифицирующими признаками (например, для кражи признак “с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище” разделен на два, чего не сделано для грабежа и разбоя; отягчающее кражу, мошенничество, присвоение и растрату обстоятельство “с причинением значительного ущерба гражданину” не предусмотрено для грабежа и разбоя, что создает проблемы при квалификации перерастания одной формы хищения в другую*(926); и т.д.), так и в придании им определенного статуса (квалифицирующий, особо квалифицирующий, особо особо квалифицирующий признак). Соответственно, не всегда выдерживается системность и однотипность дифференциации “по горизонтали” и “по вертикали”.
- К сожалению, допускается использование в рамках одной части (соответственно, и одной санкции) двух кардинально разных по степени общественной опасности признаков (группа лиц по предварительному сговору и организованная группа в п. “а” ч. 2 ст. 164 УК РФ), что нивелирует опасность организованной группы.
- Далеко не всегда дифференциация одинаково сказывается на пенализации деяния, т.е. его наказуемости.
- Заслуживает сожаления и то, что дифференциация ответственности за посягательства на собственность односторонняя: только в сторону повышения уголовной ответственности. Ее смягчение возможно только с учетом положений Общей части. Привилегированные составы среди преступлений против собственности отсутствуют. Не сформулированы и специальные условия освобождения от уголовной ответственности.
Продолжая последний тезис, отмечу, что они не были бы лишними по таким, например, составам преступления, как неквалифицированные угон, умышленное уничтожение или повреждение имущества, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Можно было бы подумать и о диспозитивной норме в отношении посягательств на собственность, которые совершаются между близкими родственниками. В связи с этим повторю свое предложение о дополнении примечания к ст. 158 УК РФ положением следующего содержания: “Лицо, впервые совершившее преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности в том случае, если полностью возместит причиненный материальный ущерб, загладит моральный вред и если потерпевший (потерпевшие) не возражает против прекращения в отношении него уголовного преследования”. В науке есть и иные предложения о поощрительных нормах, которые можно поддержать (например, предлагаемую Л.Р. Аветисян к ст. 166 УК РФ: “Если виновный в течение 24 часов добровольно, без повреждений вернет автомобиль или иное механическое транспортное средство, наказание сокращается ему наполовину или это лицо освобождается от уголовной ответственности”).
Сегодня многие ученые отмечают, что дифференциация ответственности за преступления против собственности оставляет желать лучшего, и предлагают пути устранения этого недостатка. Так, А.А. Меликов применительно к хищениям выделяет специальные юридические требования, которым должны отвечать отягчающие обстоятельства хищений.
Это требования:
- системности (обстоятельства должны формулироваться на основе понимания интереса собственности как основного объекта хищений; поэтому структура норм о хищениях, содержащих отягчающие обстоятельства, должна быть единой, что не исключает наличия специфических обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность за конкретные формы хищений);
- типичности (обстоятельства на законодательном уровне отражают наиболее распространенные случаи повышенной общественной опасности деяния по сравнению с основным его составом);
- логической непротиворечивости (обстоятельства должны формулироваться одинаково во всех составах хищений, что обеспечит, в свою очередь, единообразное их применение в практической плоскости).
Эти требования, безусловно, заслуживают внимания.
В настоящее время не учтены на законодательном уровне многие обстоятельства, значительно повышающие общественную опасность содеянного. В.В. Векленко относит к ним такой признак, как совершение преступления группой лиц, и предлагает установить повышенную уголовную ответственность за совершение хищения простой группой. Поддерживает это предложение и известный специалист по проблемам соучастия Р.Р. Галиакбаров (правда, только в отношении насильственного грабежа, разбоя и вымогательства).
Думаю, что для поддержки этого предложения нет оснований. Степень общественной опасности группового посягательства, совершенного без предварительного сговора, как правило, незначительно выше опасности такого же деяния, совершенного одним лицом. Вполне достаточно учета данного обстоятельства с применением ст. 63 УК РФ как обстоятельства, отягчающего наказание в рамках соответствующей санкции статьи Особенной части. Примечательно, что законодатель пытался вводить признак “группа лиц” в состав кражи (Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 130-ФЗ); до вступления в действие Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ этот признак квалифицировал одну из форм хищения. Затем от него было решено отказаться. Поскольку российское уголовное законодательство предусматривает только альтернативные относительно определенные санкции за любое преступление, представляется, что это правильное решение. Степень общественной опасности группового преступления должна сказаться на примененном к участникам группы наказании в рамках санкции статьи УК РФ.
С.Ф. Милюков считает, что необходимо дополнить систему квалифицирующих признаков хищения таким признаком, как совершение преступления в виде промысла. Я солидарна с высказанной позицией – она в определенной мере восполнит законодательный пробел всего Кодекса в части борьбы с профессиональной экономической преступностью, особенно учитывая декабрьские 2003 г. изменения УК РФ, которые исключили из уголовного закона признаки, свидетельствующие о профессионализме виновного (неоднократность и рецидив). Преступление – как профессия и средство к существованию – это феномен, прекрасно известный криминологам, но абсолютно не учтенный в уголовном законодательстве. Поэтому более правильным решением этой проблемы будет создание новой уголовно-правовой нормы – “преступная экономическая деятельность” (“осуществление уголовно наказуемых деяний как экономической деятельности, с извлечением преступного дохода”).
Ш.А. Кудашев отмечает недостатки дифференциации в отношении состава насильственного грабежа. Он пишет: “Фактически не проводится законодательной дифференциации ответственности за насильственный грабеж по таким квалифицирующим признакам, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, помещение или хранилище, в крупном размере, организованной группой, в особо крупном размере. Это происходит именно потому, что насильственный грабеж сам указан как квалифицирующий признак в п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ, наравне с другими квалифицирующими признаками. Такое положение не отвечает требованиям системности квалифицирующих признаков в составах всех форм хищений”. С этим, безусловно, следует согласиться. Выход из положения очевиден: следовало бы предусмотреть ответственность за насильственный грабеж в самостоятельной статье УК РФ, разделив ст. 161 на две. К такому же выводу приходит и Ш.А. Кудашев.
В науке есть масса предложений (в том числе интересных и заслуживающих внимания), содержащихся в основном в кандидатских диссертациях и касающихся дополнительной дифференциации уголовной ответственности за отдельные посягательства на собственность. Например, И.Ю. Малькова предлагает ввести самостоятельный привилегированный состав грабежа – грабеж вследствие нужды; она же ратует за возвращение в Кодекс неоднократности и за наделение состава грабежа еще одним отягчающим обстоятельством в ранге квалифицирующего признака – “с причинением значительного ущерба гражданину”.
И.Г. Шевченко это же обстоятельство полагает необходимым ввести в состав умышленного уничтожения или повреждения имущества, а кроме того, дополнить ст. 167 УК РФ ч. 3 и 4, предусматривающими повышенную ответственность за совершение названных преступлений в крупном и особо крупном размерах; в ч. 2 этой же статьи включить признак “совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы”; а ч. 2 и 4 дополнить такими квалифицирующими признаками, как совершение этих преступлений группой лиц по предварительному сговору и организованной группой. Последние два предложения (по экстремистским мотивам и по группам лиц) находим и у А.С. Мирончик.
По этому поводу хотела бы заметить следующее: дополнять конкретную норму “модными” признаками, к которым, без сомнения, можно отнести так называемый экстремистский мотив, только потому, что он появился во многих нормах УК РФ, совершенно неразумно, это не отвечает принципам криминализации и дифференциации деяния. Точно так же признаки группы лиц по предварительному сговору и организованной группы должны появляться в уголовном законодательстве лишь при их настоятельной необходимости, которая обусловлена прежде всего частотой наличия соответствующих групп на практике. Если же группы появляются лишь время от времени, нет никакой насущной потребности в этих специальных квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаках; вполне возможно привлечение лиц к ответственности с применением п. “в” ч. 1 ст. 63 УК РФ. Между тем сама же И.Г. Шевченко пишет: “Обобщение практики показало, что умышленные уничтожение и повреждение имущества нередко совершаются групповым субъектом (6,4% случаев от общего числа преступлений, предусмотренных ст. 167)”. Очевидно, что шесть с небольшим процентов от всего количества совершенных умышленных уничтожений или повреждений имущества – это немного.
В то же время некоторые исследователи пишут об излишней дифференциации по отдельным составам посягательств на собственность. Так, Г.Л. Кригер полагала таковой дифференциацию ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, отмечая, что даже по квалифицированным формам состав не выходит за пределы преступления средней тяжести.
Статьи по теме
- Продолжаемое посягательство на собственность
- О квалификации неоднократных хищений
- Совершение преступления в целях получения (завладения) имущества в особо крупном размере
- Совершение деяния из хулиганских побуждений
- Совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения
- Совершение деяния организованной группой
- Совершение деяния группой лиц по предварительному сговору
- Совершение деяния путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом
- Совершение деяния с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия
Полезные статьи


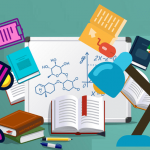






Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

